|
Олег Борушко
1
Из окна персонального автомобиля Москва кажется глубокой провинцией. Мираж объясним, но, как всякий мираж, недолговечен: вскоре сам служебный автомобиль кажется тесноватым, неновым и в целом неподходящим. Георгий вздохнул, проводив глазами машину, пошевелил пальцами  в башмаках и тронулся дальше по тротуару. в башмаках и тронулся дальше по тротуару.
Особенно ловко катить 1 сентября: на углу Остоженки скоро покажется институт, где товарищи знают тебя исключительно как пешехода, и еще если кожаный плащ совпадает с окрасом машины – черный, и если под лобовым стеклом – красивая пачка сигарет, а шофер празднично умыт и пахнет одеколоном.
«Хорошо!» - подумал Георгий.
.
Денек выдался по-сентябрьски меланхоличный, с тонким дымчатым изъяном – как и положено Дню знаний.
Две приятные «Волги», ЗИЛ, следом еще «Волга» - притормозили у института. «Суслова, Шамиль, Прежнев», - привычно отметил Георгий и вдруг остановился. Эту он не знал. В изумленье сделал шажок назад, сбоку нашаривая ручку дверцы, и очнулся. Воровато огляделся по сторонам, хмыкнул – одно из видений испарилось. Одернув плащ, снова для независимости хмыкнул. Спохватившись, скорей полным взглядом обнял второе видение целиком, как берут на руки, и предчувствие судьбы – оно! – явственно толкнулось в сердце.
- Платоныч! Здорово, ну ты че? Ну, ты мужик! – Сашулька, настоящий друг, щупал новый плащ. – А ты видел, мужик, видел? – зашептал он, едва не прихватывая губами мочку уха.
Георгий брезгливо отстранился.
- Побединскую, мужик, это какой-то атас, Побединскую видел?
- Таньку-то? – бросил Георгий наугад.
Если б он снял сейчас плащ и подарил Сашульке – вышло бы не так оглушительно.
Характер Георгия начал портиться после того, как однажды в парикмахерской, желая угодить мамаше, хмурый еврей-цирюльник пророчески поглядел Георгию в затылок и сказал: «Ах, какой красивый мальчик, что вы мне говорите, через два года мальчик будет такой цимес, что вы ваши обои глаза не оторвете», и Георгий, сладко поежившись, разом поверил.
На втором этаже попался друг-Оприченко, долговязый пристукнутый арабист, похожий на палестинского террориста.
- Середа, хелло, Побединскую видел? – друг-Оприченко змейкой сунул неспокойную руку. – Первый курс. Левел. Фазер – зав первой Европой, хата на Сивцевом, хелло, Побединскую видел? - друг-Оприченко совал уже руку Лебедеву, которого все звали Уткин из сходства с ректором.
В перерыве Георгий поднялся в верхнюю кофеварку – и она была там. С нею два молодых человека, видом с западного отделения, совместной спиной отсекали других, может, тоже желающих. Один, нервный, все время дергал ногой. Однако черных волос ее было так негритянски много, а контраст с бледным лицом – настолько разительный, что сам собою притягивался взор. «Вылитая Йоко Оно», - с нежностью подумал Георгий.
2
Три года назад, 30 августа 1983 года, прибыв из Черкасс на Киевский вокзал в глупом поезде, не имевшем никакого отношения к красоте надвигавшихся горизонтов, Георгий вышел на привокзальную площадь. Окинул размахнувшееся ввысь министерство на той стороне Москва-реки. Под этот шпиль на Смоленской площади был теперь в жизни его прицел.
Министерство сильно смахивало на градусник-Кремль, какие вошли в моду на излете пятидесятых. Дома стоял один такой на "Ригонде" - белым чудом из детства. Однажды семилетний Георгий решил измерить Кремлем температуру, засунул под мышку - как там, интересно, чувствует себя организм? Толку не вышло никакого.
В первый приезд в Москву - на вступительные - он вышел из поезда на ту же площадь и сразу ахнул, что этот самый - Кремль и есть, так вот он какой! Теперь, на два месяца опытнее, только вздохнул поглубже московского раздражительного воздуху и разлетелся в общежитие - селиться. На нем сидел клетчатый, коричневый с бежевым, пиджак и гладкие бежевые брюки. Неоднотонные такие костюмы вышли из моды в Москве года четыре назад - ровно столько потребовалось им, чтобы доплестись до Черкасс - города некогда славного, а ныне тихо забытого в объятиях днепровских разливов, воды которых ласково почесывают плакучие ивы. Именно ими, ивами, очарованный, повелел, говорят, неуемный Богдан проездом на Чигирин заложить здесь "щиру станыцю".
Общежитие являло леденящий душу контраст с названием института: 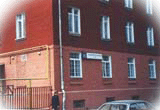 грязная пятиэтажка бурого кирпича буквой П в худшем из кварталов Черемушек, тупыми лапами подпирающая раздолбанную трамвайную колею. Уличка утыкана печальными людьми в одеждах вымирающих цветов. Позже Георгий узнал, что это квартал рабочих и лимитных общежитий и что обитателям их радоваться особенно нечему. грязная пятиэтажка бурого кирпича буквой П в худшем из кварталов Черемушек, тупыми лапами подпирающая раздолбанную трамвайную колею. Уличка утыкана печальными людьми в одеждах вымирающих цветов. Позже Георгий узнал, что это квартал рабочих и лимитных общежитий и что обитателям их радоваться особенно нечему.
В первую минуту студента окатило обидным недоумением - он явным образом заслужил другого. Перепроверив адрес, он еще раз придирчиво осмотрел цифру 26, косо вбитую в угол. Нет, никак невозможно было поверить, что здесь проживают студенты и н с т и т у т а. Однако же в направлении, которое так и сяк вертел в руках Георгий, неумолимо значилось: "...далее м. "Университет", далее трам. № 26 до ост. ул. Н. Черемушкинская, 26, далее ул. Н. Черемушкинская дом № 26". "Чертова цифра, - подумал Георгий, кусая щеку, - куда уж тут далее..."
Дóма, в пропавших самогоном и кровяной колбасой Черкассах, институт смутно рисовался Георгию залой, даже не самой залой, а сверкающей внутри зеркально-ковровой игрой, где в переливах "Битлз" происходил дипломатический прием, причем сами слова "дипломатический прием" отчетливо произносились каким-то швейцаром, не то швейцарцем, гибко выходящим из синего мерседеса с флажком на правой щеке, и звучали странным образом по-французски, хотя Георгий не представлял, как именно это по-французски звучит. Поверху залы Западным Берлином сияло полное название института.
С тех пор как Георгий узнал полное название, он аккуратно подчеркивал в аббревиатуре букву "г" - государственный. Государственный - значит мой, нашенский, народный, - Георгий так и зарубил себе на носу еще в школе, но, лихо сдав вступительные экзамены ("Реформы Сперанского были направлены против дворянско-бюрократического аппарата", повторил он, потный, в третий раз то одно, что железно про Сперанского врубилось в голову. Профессор перелистнул что-то под столом, Георгий не допускал и думать - чтó, сердце стучало, хоть знало, что мама прорвалась к замминистру, профессор внимательно вгляделся себе куда-то в колени, сверился с экзаменационным листом, потом кивнул под стол аспиранту, они вдвоем туда наклонились, видно, близорукие, и, снова внимательно выслушав, против кого направлены реформы, выставили отметку), сдав экзамены на "отлично", Георгий сообразил, что вектор изменился: мой - значит теперь государственный.
Помогла и медаль, в получении которой классная руководительница Зульфия Ибрагимовна Садыкова, по кличке ЗИС, казанская сирота, была заинтересована не меньше Георгия. Отчим через маму дал намек, что поможет с квартирой, Зульфия привезла на дом экзаменационное сочинение.
Ковер был-таки на месте, перехваченный по изгибам парадной лестницы медным прутом с шишечками на концах. Было и зеркало. Огромное, стальное фасом ко входу, оно бесстрастно отражало всякого, кто решил подняться по ковровым ступеням. Сами ступени имели коварную ширину: по их плоскости одного шага не хватало, а двух - было много. Приходилось делать шаг - и шажок, такая побежка.
Был даже потасканный бьюик, приткнувшийся на углу.
На обыденность самого воздуха при входе, скучные лица трех милиционеров, один явный алкоголик - вот что моментом сбило с Георгия торжественный накал.
И все ж если главное здание института - еще хоть как-то соответствовало, то общежитие было просто "курам наспех", как выражался Арсланбек.
Геoргий едва отыскал вход, перетыкавшись для начала во все позабитые двери странного здания. Вход оказался, как и положено, сзади и глядел прямо в свежий забор, нетрезвыми зигзагами выкрашенный в издыхающий зеленый цвет. За забором располагался гофрированный олимпийский объект, каких множество в панике выстроилось по Москве к 80-му году и которых теперь никто не знал к чему приспособить.
На вахте за фанерным барьером сидел сам педагог-воспитатель Бэбэ. Это был такой Борис Борисович, селекционер. Он коллекционировал волнистых попугайчиков, мрачно скрещивал их, добиваясь особенной волны, волны все не выходило, а опыты сильно влияли на расположение духа Борис Борисовича. Росту в нем было метр шестьдесят с кепкой, и радости тоже, понятно, не прибавляло. Оттого в дополнение к педагогическим он с удовольствием выполнял и некоторые особые функции.
- Мест нету, ум, - сказал он, не дав Георгию раскрыть рта и с интересом разглядывая чемодан.
(Мамочка пожалела хороший чемодан:
- Обтрэплэться, Гошенька, це ж такэ дило, а ось о гарный, зараз тильки ручку пришьемо, а колы вжэ за граныцю пойидэшь, тоди й новэнький визьмэшь, оцей, о, бачишь?)
Увидев чемодан Георгия и его разномастный костюм, Бэбэ, видать, сразу понял, что за птица прилетела на его шесток.
- И не будет, тэмм, - Борис Борисович сопровождал фразу необязательным движением нижней челюсти, звук при этом продолжал идти, отчего крайнее слово отчеркивалось затейливой виньеткой.
- К-как-как? - Георгий струхнул. - Так а...
- Большой заезд нынче, откуда таких понабралось, сьмм? - вслух размышлял Борис Борисович.
- Да, но я... так а как же... но где же мне жить, а-а?! - Георгий неожиданно осатанел.
Вся бессонная, бездарная ночь в поезде, где два начитанных соседа и соседка - директор библиотечного коллектора в городе Нежине, напившись пива с коньяком, до утра храпели без всякого порядка, особенно соседка; все возбуждение Москвой и контрастная гнусность красномордого квартала, куда без ошибки занес его 26-й трамвай, - все это разом хлынуло из Георгия:
- Вы что, издеваететсь?! Я студент института! Вы что? Я сейчас!..
- А где хотите, - отвечал Бэбэ на какие-то свои вопросы, - можно у родственничков, вы, когда поступали, где жили? Ах, в гостинице? Ну, там и живите, а или советую, умм, снимите Банный переулок, метро "Проспект Мира", вторая остановочка налево, хм, - он, не сдержавшись, улыбнулся, - не забудьте, Банный - два "н".
"Где они таких чемоданов берут?" - услышал уже в спину Георгий, вылетая из общежития.
Он был до такой степени ошарашен, что схватил подвернувшийся "Москвич" с фургоном, и, умостив чемодан на коленях, поехал... к ректору.
То был вопиющий, из ряда вон выходящий пролом в субординации института.
"Я сейчас... я ему..." - прыгала в такт чемодану мысль.
Георгий не знал, что ректор института есть Чрезвычайный и Полномочный Посол, член Коллегии МИД, с ума сойти, если вдуматься в каждое слово. Каждого достаточно, чтобы у благоразумного советского человека твердых взглядов ум зашел за разум.
Георгий влетел с чемоданом в приемную и, запыхавшись, сказал гневно:
- Ректор у себя?
Три опешивших машинистки, замерев за станками, скрестили на нем взгляды, потом перемешали их между собой, снова скрестили и вместе сказали:
- А вас выз..?
- Вы?..
- У нас записы... - вновь озадаченно пересмотрелись. Наконец старшая, в прическе "хала" - тоже в сеточке и тоже, кажется, с маком - не выдержав, вдавила клавишу селектора:
- Амон Сергеевич, тут к вам...
- Фамилия!!! - прогремело откуда-то сверху занятым голосом.
Уже один взгляд Бэбэ по возвращении, уже одно то, как он снял очки - сказало бы многое проницательному человеку. Но проницательный человек не пойдет прямо к ректору и н с т и т у т а, если не на грани сумасшествия или отъезда за границу.
26 сентября у Чиеу не состоялся день рождения. Чиеу был сосед Георгия по комнате и вьетнамец, хотя лицом - вылитый монгол.
Чиеу, СРВ, и Георгий Середа, СССР, - уселись за стол вокруг бутылки монгольской водки "Архи" - и дверь без стука отворилась. По правилам проживания - врезать в двери замки запрещалось категорически. В комнату плавно и сказочно, как Христос по воде, вошли четверо и полукругом расставились возле стола. Все хором смотрели на бутылку.
Георгий притиснулся к стулу, Чиеу начал было гостеприимное движение, но сдержался.
Комиссия была совершенно на одно лицо - они словно разом испугались в детстве подрасти и как-то расправиться, да так и подсохли. Первый - ректор института Моргунов-Уткин, похожий на жену египетского фараона, только причесанную на пробор.
- Да он посол-то липовый, мужик, ты что, не слышал? Он же с начальника курса так и пер до ректора, а уже по должности, сволочь, и ранг получил, понял? - Сашулька презирал выскочек.
- Врешь! - жестко отсекал Хериков, мужчина без всяких.
Он считал долгом защищать вверх по служебной лестнице.
Георгий пришел в себя, кашлянул и осевшим басом пояснил:
- Это во-водка...
В воздухе, над столом, над обрывками девушки с "Мальборо", которую украдкой стащил со стены секретарь парткома Никулин и шипя терзал обеими руками, молчание стало зловещим. И вдруг ректор открыл рот. Это было страшно. Он открыл рот и сказал:
- Что? - сказал он.
Все попятились.
Если только смертному дано представить, как ходит Чрезвычайный и Полномочный Посол, то это выйдет так, как ходил Моргунов-Уткин. Он ставил ноги немного впереди, а тело оставлял чуть сзади, голова мертво сидела на плечах, не отзываясь на движение туловища. Да, то шла власть, так она почему-то ходит в странах народного представительства. "О чем это у тебя мысли?" - сквозило в египетском изгибе фигуры ректора. Этот, конечно, есть самый русский вопрос, до него не привелось дожить поэту Блоку.
Строгий выговор "за распитие спиртных напитков и нарушение правил социалистического общежития" обсуждался в обеих кофеварках. Георгий в считанные часы приобрел репутацию рокового парня и бонвиана.
- Не знаю, как вы теперь, Георгий Платонович, на работку распределитесь, не знаю, - без тени юмора сказал Баранович, замдекана по этим вопросам. - Такое пятнышко трудно смыть-то, ой как трудно. Очень сложно. Нелегко, да. Но можно, - неожиданно добавил он и заглянул Георгию в глаза, - можно, конечно.
По толстым стеклам очков бегали блики. Георгий не мог разобрать толком.
- Присаживайтесь на стульчик.
Георгий внезапно понял, чтó ему сейчас предложат. Мгновенный холод прохватил донизу, он быстро сел, била беспомощная мысль: "Как же так, месяца не проучился, как же это, всего месяц почти..."
- Институтик у нас, как вы знаете, политический, правда?
Георгий кивнул.
- Вы комсомолец? А где значочек?
Георгий кивнул.
- Ну ладно. Разное, бывает, у студентов происходит, правда? Правильно. Ну вот и... - он чутко посмотрел на Георгия, - вы стишков не пишете?
Георгий очумело кивнул, потом мотнул, потом снова кивнул головой.
- Не пишете, жаль. Так вот, вузик у нас политический, да? Ага, - продолжал Баранович, - вы где живете?
- В общежитии, - пробубнил Георгий.
- Да нет, в каком городишке, в Херсоне, кажется?
- В Черкассах...
- Ну и как там? Студентов мы готовим к серьезной работке, и должны, так сказать, вам денег хватает, кстати?
Георгий двинул ноги подальше под стул.
- А то я смотрю - все пирожные покупаете, интересно, откуда средства? Ну, это мы выясним, да, а как же, выясним, так у меня к вам просьба, - он, наклонившись, вдруг покрыл руку Георгия своей и молчал... - Я думаю, вы меня поняли, - наконец сказал он, откидываясь на спинку. - Я здесь до восемнадцати ноль-ноль, кроме среды. Тогда, глядишь, и выговорчик снимем. Заходите.
3
Георгий,
забывшись, потеряв осторожность, любовался в кофейне Татьяной.
- Окучивают, - завистливо родилось в ухе. Георгий кивнул,
посмотрел еще напоследок, запоминая - заметные тени под глазами, какие встречаются у впечатлительных школьниц, и словно
взывают к силе и благородству мужчины, который близко.
- Побединская - это какой-то атас! - Сашулька дернул за
рукав. - Танечка, понял?.
- Понял, - сказал Георгий, взял два кофе, взял у Сашульки
рубль.
- Чего стал, неси, - кивнул на чашки.
Сашулька послушно принял блюдца с чашками, понес, пока глядел на одну - другая съезжала к критической точке. "Вот чмо!" -
подумал Георгий, положил сдачу в карман, сел к столу.
- Ну-с? - сказал он, придвигая кофе.
- Да вот, - Сашулька поерзал, воровато поглядел на Татьяну
и сунул Георгию листок.
"Побединская Татьяна Юрьевна", - прочел Георгий вверху
слепого, верно, пятого экземпляра.
- Ого! - сказал он. - Скоро. - Отложил листок, помешал в
чашке. Сашулька скромно опустил глаза, приняв похвалу.
- Кто? - спросил Георгий. -
Оприченко?
- Не знаю, Платоныч, мне Лебедев дал. В смысле Уткин. Ну,
с пятого курса.
- О?
- Я тебе сразу.
- Ага. Да мне что... - Георгий снова взял листок, быстро
вчитался в графы анкетки: "Год и место рождения"... "Родители"... "Квартира"... "Партийность"... "Слабости"... не переставая,
однако ж, небрежно говорить, - мне-то ладно... угу... аккуратненько... да-а... на, держи. Мне не нужно.
Сашулька восторженно заглянул в лицо другу: каждый раз
Георгий обманывал ожидание - сохраняя бесстрастие к самым пикантным фактам и событиям института, даже когда сохранить
его казалось выше человеческих сил, как, например, сейчас.
- Ну, еще что? - сказал Георгий. - Как
лето?
- Д-ды... - Сашулька замялся.
- В Белгороде у бабушки? - помог Георгий. Сашулька
кивнул, словно сознался в проступке. Георгий хмыкнул.
- А ты? На даче? - Сашулька охотно отдал пальму
первенства.
- На даче, - Георгий зевнул. (Дачей с первого курса
назывался домик в Черкассах.) - Ну? Что там в Белгороде? Чего делал-то?
- Да так...
- Девочки?..
- Ага...
- Не дала, - отрезал Георгий.
Сашулька правдиво кивнул.
- Да-а, - сказал Георгий. - Что ж ты? Как же ты будешь?
Татьяна-то вот... Что там в графе "влечения"? - Сашулька снова полез за листком, прочел:
- Вот. Балет, импрессионизм, Роберт
Рождественский.
- Видал? - сказал Георгий, сбоку снова быстро обежав
глазами страницу. - А ты - де-евочки.
- Да ты че, Платоныч? У нее тоже, где это, а, вот "Первая
любовь", гляди, так... "Миша, одноклассник, мединститут, метр семьдесят"... Миша, а? Тоже, скот, губы
выкатил...
- Так у нее любовь, - Георгий что-то
соображал.
Во все время разговора не уставал следить за кофейней,
видел, как уходила Татьяна, съев два пирожных и одно захватив с собой. Напоследок улыбнулась нервному с ногой, и лицо
преобразилось. Но не от веселящего движения губ и щек, поразился Георгий, а от внезапного детского
выражения.
- А может, и у меня тоже... с первого взгляда, - бубнил
Сашулька.
4
Если можно одним
словом назвать состояние Георгия после выговора и беседы с Барановичем - то он был смят. Все не мог поверить, что это
произошло с ним. Когда столько хорошего надеялся совершить, когда мечтал так самоотверженно трудиться для Советского
правительства и лично Генерального секретаря, который скоро узнает о нем и скажет: "Товарищи! Середа - прекрасный человек.
Середу - не трогать, пусть работает!"
"Ловко, - с горечью думал Георгий, - отыгрался Бэбэ за
ректора! Первую же комиссию - ко мне. И день рожденья же выследил - природовед, сука".
Зато главное понял без подсказки. Связи студентов идут
слишком далеко, чтобы соглашаться на Барановича. Курс моментом узнает. Будут, конечно, бояться, но малая жизнь - не для
него.
5
Первые недели
сентября рокового четвертого курса плелись тихонько сами по себе, тогда как время Георгия летело стремительным бесом. Он
повсюду выискивал Татьяну, утром шарил глазами по кулям пальто на вешалке - пришла ли? Сидел на лекции по
международному коммунистическому и рабочему движению, сидел, уткнувшись носом в ладонь, и невесело понимал, что с
Татьяной дело - швах.
В институте за Георгием хвостом тащился один недостаток,
но существенный - он не был хорошей фамилии.
"Да и черт ли в ней - в этой фамилии!" - дерзко думал иногда
Георгий.
А все ж хотелось.
"Ладно, - насупившись, размышлял он, - у меня нет, зато у
сына будет".
Лектор, женщина из когорты железных партиек, в очках а-ля
нарком Луначарский, перескакивала с Совещания коммунистических и рабочих партий 1969 года на Совещание
коммунистических и рабочих же партий 60-го. Георгия раздражало, что не может ухватить разницы, он кусал губы и видел:
Татьяну нужно брать лихим скоком или не дергаться. И то, скоком - дело нехитрое, но бабушка еще надвое сказала: общага, да
темная родословная, да и язык... ("Простите, а вы какой язык изучаете?" - с ходу спросила как-то на первом году барышня с
курсов машинисток МИДа во время легкомысленного танго. "Корейский", - с стесненным сердцем ответил Георгий. "Ах,
коре-ейский, - барышня прекратила танец. Потом встрепенулась: - А, простите, южнокорейский или северно?" - "Ммэ-э..." -
"Понятно, - сказала барышня, - я что-то устала"), так вот язык этот - не в дугу, плюс без прописки, да мама с украинским
акцентом - несильный капитал для любовного удара. Отчим, хоть и болван, на мелководье безупречен: "Кто ее ужинает, тот ее и
танцует". Прав.
В институте для родословной хватало одного предыдущего
колена, но и такого колена не завелось, грустил Георгий. Имеется, правда, сомнительная щиколотка, седьмая вода на киселе -
заместитель министра, и того видел два раза в жизни проездом. Запомнил только запах гуталина - почему гуталина? Оно,
конечно, все знали, что есть замминистра - в институте знают такие вещи, но толку - как от козла молока. Совершенно зам не
проявлялся в его московском быте: общежитие! Дамы просили телефонов, вот ведь вдруг и Татьяна спросит... Георгий сладко
замер... Эх, полцарства за телефон, какая глупость: такой институт - и нет телефона!
- А у него нету, мэн, - говорил друг-Оприченко самой
красивой, опережая замысловатый ответ Георгия ("Временно отключен, проводят прямой служебный". - "А-а, понятно".
Служебный - всем понятно). - Он у нас в общежитии проживает, можно на вахту лэттер, да, Гога? - и гнусно улыбался,
живодер.
Георгий уже знал, что Татьяна любит трубочки с орехом за
28 и эклеры за 22, если крем шоколадный. Эклеры ела так: скусывала для начала верхушку пирожного, где помадка, потом
выедала из оставшейся гондолы крем, а затем уже быстро добивала и гондолу. Девушки никогда не ели так в институте. Они
там вообще старались не насыщаться, чтобы не снизить идеал в глазах мужчин. А если и клевали сладости, то ерзали
челюстями тихонько вбок-вбок, а не вверх-вниз, как бы следовало, так что жалость к ним в эти минуты перевешивала
восхищенье небесностью. Георгий мечтал изловчиться как-нибудь подойти к хило жующей девушке и крикнуть в
ухо:
- Я не буду смотреть! Слышь? Только съешь ты его как
следует!
|